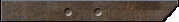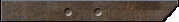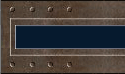Почему так много видов? Что экологи называют биоценозом? Это сообщество разных видов животных и растений, населяющих данный участок местности или тот или иной водоем. Виды, волею судеб оказавшиеся соседями по биоценозу, связаны друг с другом огромным количеством причудливо разветвленных связей. Перед нами не просто набор видов, а более или менее целостная система взаимосвязанных популяций.
Энергетическую основу любого биоценоза составляют зеленые растения. Только они с помощью фотосинтеза способны преобразовывать энергию солнечного света в энергию питательных веществ. Далее выстраивается длинная очередь потребителей, претендующих на эти вещества. Например, в океане первичный запас пищи создают водоросли, их поедают планктонные рачки, попадающие на обед многочисленным в тропических водах летучим рыбам. За летучками охотятся макрели и скумбрии, составляющие излюбленное лакомство стремительных тунцов. Акулы крохотными летучками не интересуются, но за тунцами гоняются с большим азартом.
Перед нами биоценоз, включающий пять трофических уровней. Его можно представить себе в виде классической пищевой пирамиды. В ее основании находятся все водоросли и рачки, биомасса которых намного превосходит биомассу рыб, занимающих верхние этажи пирамиды. Наконец, самая вершина занята акулами – крупными хищниками, не имеющими в природе врагов, кроме человека. Интригующая особенность биоценозов, привлекающая к себе повышенное внимание экологов, состоит в том, что к одному трофическому уровню в любой экосистеме обычно принадлежит большое число видов, причем многие из них состоят в близком родстве друг с другом.
Тут таится много вопросов. Почему появляются и как сосуществуют виды – экологические гомологи? В какой мере они. дублируют друг друга? Насколько, будучи членами одного сообщества, непосредственно взаимосвязаны? Как они делят ресурсы, и в самом ли деле есть необходимость такого размежевания? Ответы на эти вопросы не столь очевидны, каковыми казались еще лет десять назад. На рубеже семидесятых и восьмидесятых годов умонастроения экологов серьезно изменились. Произошла консолидация сил оппозиции, которая до этого времени проявляла себя лишь в отдельных выступлениях. Теперь же, укрепив свои теоретические позиции, оппозиция эта развернула крупномасштабное наступление на экологические традиции. И в центре дискуссий, кипящих на страницах научных журналов в восьмидесятых годах, вновь оказалась концепция межвидовой конкуренции.
Главным звеном экологической парадигмы на протяжении многих десятилетий остается идея межвидовой конкуренции. Пройдя длительную эволюцию, переживая спады и подъемы, она постепенно утвердилась в качестве объясняющей все причины. Еще совсем недавно эколог, настаивающий на критическом отношении к идее конкуренции, в глазах многих своих коллег рисковал предстать в роли физика, усомнившегося в законе всемирного тяготения. Что же включает в себя понятие межвидовой конкуренции, есть ли она в природе, и если да, то каково ее место в биоценозах, где, как мы успели убедиться, родственные виды с одинаковыми потребностями часто живут бок о бок?
Область, где зародилась идея конкуренции, определить нетрудно. Это математическая теория изменений численности населения животных – теория роста популяций, тесно смыкающаяся с демографией.
Что же это за теория? Вкратце она выглядит так. Если виды, живущие в одном биоценозе, нуждаются в одной и той же пище, то по мере роста численности этих видов один из них с фатальной неизбежностью должен пасть жертвой конкуренции со стороны своего более удачливого соседа, который быстрее размножается в данных условиях и вскоре полностью присваивает всю пищу. Чтобы предотвратить роковой исход, есть только одна возможность. Если какие-то птицы ловят для пропитания бабочек, а другие – жуков, ни о какой конкуренции между пернатыми и речи идти не может. Нет места конкуренции и в том случае, если одни птицы гоняются за бабочками в лесу, а другие – за теми же бабочками, но на соседнем лугу. Согласно теории конкуренции, близкие виды могут населять район лишь в том случае, если они эффективно делят между собой необходимые им ресурсы. Каждый вид, претендующий на то, чтобы стать постоянным членом биоценоза, должен подыскать себе такую «профессию», которая гарантировала бы ему определенный прожиточный минимум.
Итак, «мирное сосуществование» потенциальных конкурентов зависит прежде всего от того, насколько различны оказываются их «профессии», которые экологи договорились называть экологическими нишами. Иначе говоря, каждый вид занимает свою экологическую нишу, где с максимальным успехом расходует доступные ему здесь ресурсы.
Это в общих чертах модель сообщества, построенного на борьбе каждого вида против всех других видов. Борьба идет прежде всего за пищу, основная форма борьбы – межвидовая конкуренция. Такова парадигма. Ее фундамент заложен еще в середине двадцатых годов, а спустя сорок лет строительство было завершено.
Ученым свойственно сомневаться в незыблемости доминирующих доктрин, поэтому господствующая ныне теория конкуренции никогда не пользовалась монополией на владение умами. Еще в конце пятидесятых годов известный лимнолог Дж. Хатчинсон высказал предположение, что принцип конкурентного исключения вовсе не столь уж необходим для совместной жизни близких видов. Изучая сообщества пресноводного фитопланктона, Дж. Хатчинсон обнаружил, что десятки видов одноклеточных водорослей прекрасно уживаются друг с другом, хотя и нуждаются в одних и тех же минеральных элементах – нитратах и фосфатах, растворенных в воде. Парадокс? Да, и именно «парадоксу планктона» суждено было стать одним из первых кирпичиков, уложенных в фундамент растущего здания скептицизма и оппозиции.
Между тем сам Дж. Хатчинсон – один из видных творцов теории конкуренции, вовсе не думал, что открытый им парадокс может поколебать устои. Сезонная смена видов водорослей в природных водоемах весной и летом идет столь стремительно, решил он, что водоросли, преуспевающие в межвидовой конкуренции, в силу некоторых причин начинают сходить со сцены сообщества раньше, чем рост их числа создаст угрозу для менее удачливых видов. По его мнению, перед нами всего лишь «исключение из правил, которое лишь подтверждает само правило». Показательно, что шаткость такой примиренческой позиции почувствовали прежде всего сами же сторонники принципа конкурентного исключения. Гипотеза «неравновесности» Дж. Хатчинсона, привлеченная им для спасения устоявшихся взглядов, была воспринята как чужеродное тело.
Почему же? Да потому, что Хатчинсон обнаружил не исключение из правил, как он сам считал, а по существу провозгласил принципиально новую программу изучения неравновесных сообществ, чьи принципы организации коренным образом отличаются от тех, к которым привыкли экологи, рассматривающие сообщество как жестко организованную совокупность видов, спаянных воедино однозначными связями. Этот революционный выпад породил целую кампанию за устранение «парадокса планктона». Для этого нужно было доказать, что разные виды водорослей используют разные же наборы минеральных солей. Одним исследователям это удалось, другим пришлось констатировать незыблемость «парадокса». Как часто бывает в науке, факты оказались далеко не «упрямой вещью». Ощущалась потребность свежего взгляда.
Контуры нового подхода сравнительно недавно удалось обозначить сотрудникам лаборатории экологии МГУ, где работы по морскому фитопланктону возглавил профессор В.Д. Федоров. Оказалось, что конкуренции за минеральные вещества среди водорослей обычно нет. Дело не в количестве ресурсов и не в способах их раздела. Главное, что водоросли активно взаимодействуют друг с другом посредством продуктов жизнедеятельности клеток – метаболитов, накапливающихся во внешней среде. Когда их становится слишком много, клетки перестают делиться, и рост культуры прекращается задолго до того, как будут исчерпаны все минеральные ресурсы.
Химический состав и концентрация метаболитов, растворенных в воде, в решающей степени определяют изменения численности и видового состава планктонного сообщества. Прямая конкуренция за пищу подменяется сложными и динамичными информационными связями. В зависимости от условий, метаболиты данного вида либо угнетают, либо, наоборот, стимулируют размножение других видов. Иными словами, возможны как негативные, так и сугубо позитивные межвидовые отношения. Разные виды не только не стремятся окончательно вытеснить друг друга, но как бы «удерживают» в сообществе те виды, численность которых падает ниже определенного уровня. Не здесь ли кроется разгадка «парадокса планктона»? Впрочем, теперь уже ясно, что пресловутый «парадокс» действительно парадоксален лишь для традиционной системы взглядов на многовидовые сообщества.
Но ведь такой образ мыслей – далеко не единственно возможный! Как раз на рубеже семидесятых и восьмидесятых годов многие экологи активно занялись поисками альтернатив теории конкуренции и экологических ниш, что в немалой степени было подготовлено быстрым проникновением вероятностного стиля мышления во все «традиционные» области биологии. Раньше сложные системы, вроде биоценоза, представлялись в виде аккуратного, продуманного хранилища, где все виды разложены по полочкам, то есть по экологическим нишам. Теперь же в сознании многих исследователей все более прочно укреплялась крамольная мысль о том, что образцовый порядок, якобы царящий в экосистемах, скорее всего отражает доминирующие умонастроения, но никак не реальное положение дел...
Давно известно, что наблюдатель замечает лишь то, что он хочет видеть. Стоило сменить исходную установку, как тут же порядок в экосистемах стал превращаться в хаос. Законченные полотна с тонким набором цветов и безукоризненной композицией, изображающие продуманные сюжеты на биоценологическую тему, уступили место картинам, где контуры отдельных явлений, расплываясь, плавно смыкались друг с другом, порождая у поклонников классического стиля чувство недосказанности и неопределенности.
Экология вслед за многими науками вступила в эпоху острых противоречий между однозначным и вероятностным видением мира. В центре противоречий оказалась классическая теория конкуренции, где в наиболее полном виде выражена идеология детерминизма. Мировое сообщество ученых-экологов разделилось на два лагеря, и отношение к проблеме конкуренции стало тем паролем, по которому члены одного лагеря узнают своих единомышленников.
Одни утверждают, что дамоклов меч межвидовой конкуренции, висящий над сообществом, служит главной причиной, определяющей численность, облик и эволюцию сосуществующих видов, потребляющих одну и ту же пищу. С точки зрения экологов, примыкающих к другому лагерю, близкие виды, расположенные в экосистеме на одном трофическом уровне, всегда живут среди избытка пищи, поскольку их численность эффективно ограничивается сложным комплексом причин. В их ряду межвидовой конкуренции отводится самое скромное место.
Таким образом, однофакторная модель сообщества, построенного на диктатуре конкуренции, противопоставлена многофакторной модели, в основе которой заложено плюралистическое управление. Идея раздела ресурсов противостоит идее интегрального контроля численности, идея глобального дефицита – идее всеобщего изобилия. Быть может, автор сгущает краски? Возможно, перед нами не альтернативные, конкурирующие доктрины, но всего лишь взаимно согласующиеся и дополняющие друг друга точки зрения? Попробуем разобраться. Вспомним реакцию экологов на парадокс планктона, или «парадокс Хатчинсона», как его недавно стали именовать.
О каком же взаимном согласовании этих подходов может идти речь, если одни исследователи прилагают все усилия, чтобы устранить парадокс, обратив его в пример, подтверждающий теорию конкуренции, тогда как их коллеги, придерживающиеся иных взглядов, используют тот же «парадокс» как парадную вывеску своей исследовательской программы?
Как же объяснить вполне очевидные различия в местах обитания, питании и годовых циклах видов, оказавшихся соседями в одном биоценозе? Почему одна птица живет в поле, другая – в лесу, а третья – в зарослях камышей вдоль реки? Почему одни гусеницы кормятся листьями боярышника, другие предпочитают крапиву, а третьи, щеголяя гурманством, объедают какое-нибудь экзотическое, редко встречающееся растение? Почему, наконец, придя в июле на берег пруда, мы не встретим многих стрекоз из числа тех, что летали здесь в начале лета? Их заменили другие виды, а ближе к осени и они уступят свое место новому, последнему в этом году, поколению легкокрылых охотников. Кстати, и на охоту разные виды стрекоз имеют обыкновение отправляться в разное время дня: одни ловят добычу в прохладные утренние и вечерние часы, другие предпочитают жаркое дневное время.
Мы привели лишь несколько примеров экологической сегрегации близких видов. Такие примеры составляют объект особого почитания среди приверженцев теории конкуренции, которые ведут специальные реестры, куда заносят все вновь открываемые различия в экологии совместно живущих видов. Но зачем нужны подобные различия? Ответ готов: чтобы свести к минимуму вездесущую конкуренцию.
К огорчению сторонников конкуренции, идеальная сегрегация между видами, претендующими на одни и те же ресурсы, наблюдается далеко не всегда. Еще более огорчительно, что пресловутые экологические различия столь же непринужденно можно объяснить в альтернативной системе взглядов, где понятие конкуренции не используется.
Что же тогда? Ведь сосуществующие виды чаще всего и в самом деле различаются по образу жизни? Это так, но ведь те же самые виды столь же не похожи друг на друга и по всем другим признакам: внешнему облику, поведению, физиологии. Иными словами, сравнивая между собой разные, хотя и родственные виды, мы находим бесчисленные различия, многие из которых явно не имеют никакого отношения к межвидовому соперничеству за пищу. В этом нет ничего удивительного, ведь процесс эволюции в том и состоит, что виды, некогда имевшие общего предка, с течением времени становятся все более непохожими не только на своего прародителя, но и друг на друга. Каждый вид, приспосабливаясь к своей среде, и по внешности, и по внутреннему строению, и по экологическим особенностям все больше отдаляется от своих сородичей. Вновь перед нами две альтернативные, конкурирующие модели природных сообществ.
Одна – пример сообщества, насыщенного жестко и однозначно связанными видами. Другая – рисует сообщество, наделенное огромным числом степеней свободы, где каждый вид предоставлен прежде всего самому себе, тогда как все его контакты с близкими видами носят исключительно факультативный характер, что во многих случаях не мешает их высокой сложности. И противники, к сторонники теории конкуренции мобилизуют в поддержку своих взглядов сотни примеров, причем часто одних и тех же. Приходится лишь удивляться тому, насколько беспомощными оказываются факты, вовлеченные в единоборство теоретических конструкций.
Противники конкуренции имеют одно существенное преимущество перед сторонниками. Именно противники держат в руках так называемую «бритву Оккама» – важный методологический принцип, состоящий в том, что число научных понятий не должно быть умножаемо без необходимости. Одним исследователям для того, чтобы объяснять уже накопленные и предсказывать новые факты, необходимо понятие межвидовой конкуренции, другие же ученые обходятся без него.
Как решить, кто же прав? Один из лидеров в стане оппозиции, американский эколог Д. Симберлов, на рубеже семидесятых и восьмидесятых годов выступил с идеей, которая, по его замыслу, была призвана расставить все точки над i в разгоревшейся дискуссии о конкуренции. Для этого он обратился к понятию «нулевых гипотез» в вариационной статистике. Эта область математики изучает законы изменчивости. Предположим, нам нужно оценить достоверность различий между двумя совокупностями предметов по одному из признаков, скажем, по их длине. Вначале мы должны будем предположить, что эти различия носят чисто случайный характер – в этом и состоит в данном простейшем случае «нулевая гипотеза». Лишь после того, как с помощью специальных математических процедур мы сможем показать закономерность различий, их достоверность, у нас появится возможность отбросить «нулевую гипотезу.
«Нулевой гипотезой» Д. Симберлов предложил считать те различия между видами или те особенности их размещения в пространстве, которые могли возникнуть чисто случайно в ходе эволюционной дивергенции, причем у разных видов независимо друг от друга. Опровергнув или подтвердив «нулевую гипотезу», мы, по замыслу автора, сможем сделать обоснованный вывод о присутствии межвидовой конкуренции. Метод внушал энтузиазм, ибо производил впечатление объективности и давал отрадную для современного эколога возможность применить в полном объеме сложные математические расчеты на ЭВМ.
Наибольший резонанс метод «нулевых гипотез» вызвал в так называемой «островной биогеографии», которую со всеми основаниями можно называть и «островной экологией». Со времени Ч. Дарвина не ослабевает интерес биологов к животным и растениям, населяющим удаленные от материков океанические острова, где перед исследователем открывается целый спектр экологических, географических и эволюционных проблем.
Вот, например, сколько видов, потребляющих приблизительно одинаковую пищу, может ужиться на данном острове? Зависит ли число сосуществующих на острове видов от его размера? Как влияет на фауну островов их удаленность от материка – главного источника, откуда время от времени и попадают на острова все новые виды животных? Еще более интригующая ситуация складывается на архипелагах – группах небольших островов, подобных Галапагосским, Гавайским или Сейшельским. Здесь каждый остров может стать для пришельцев с материка новой родиной, причем на разных островах потомки одного вида-колониста могут со временем превратиться в совершенно разные виды, а затем уже в новом качестве, переселяясь с острова на остров, где-нибудь встретиться вновь.
Островные экосистемы до поры до времени исправно поставляли примеры межвидовой конкуренции. Океанские просторы, отделяющие остров от материка, предолеть нелегко. Еще труднее укорениться на острове – ведь для этого надо, чтобы сюда за относительно короткое время попали бы несколько особей одного вида, призванные основать жизнеспособную популяцию. Неудивительно, что число видов животных на острове или архипелаге всегда намного меньше, чем на близлежащем материке. Островные биоценозы беднее и значительно проще устроены. Тем больше оснований утверждать, что конкуренция на островах будет особенно острой.
Доказательство? Пожалуйста! Вот среди океанских волн раскинулся удаленный архипелаг небольших островов. На некоторых из них живут зеленые и бурые ящерицы гекконы, чудом приплывшие сюда на стволах деревьев, преодолев сотни миль, отделяющих острова от материка. Здесь, на своей родине, эти ящерицы без трений живут бок о бок. Но вот на архипелаге нет ни единого островка, где мы могли бы отыскать оба вида. На одних островах ящериц вообще нет, на других живут только бурые, на третьих – только зеленые.
Вот и доказательство. На материке, в богатых биоценозах, среди изобилия пищи разные ящерицы прекрасно уживаются, тогда как в бедных островных экосистемах «места под солнцем» хватает лишь для одного вида, который способен с максимальной эффективностью использовать пищевые запасы острова. На первый взгляд, ящерицы живут на островах так, что конкуренция между ними не вызывает сомнений.
Тем не менее Д. Симберлов позволил себе усомниться. Он задал резонный вопрос: а не могли ли ящерицы расселиться по островам точно так же, но по воле случая, то есть независимо друг от друга? «Нулевая гипотеза», предложенная для данного случая, и состоит в том, что бурая ящерица не живет вместе с зеленой не потому, что одна из них роковым образом вытесняет другую, а просто потому, что им пока не представился случай поселиться вместе. Хотя вероятность успешной колонизации острова ничтожно мала, даже и эта мизерная вероятность уменьшается ровно в два раза, если мы захотим «поселить» на острове оба вида ящерицы. Надо ли удивляться тому, что на каждом острове живет только одна ящерица, на многих островах их вообще нет – сюда они пока не добрались.
Приведенный пример, разумеется, предельно схематичен и прост. С его помощью мы пытались проиллюстрировать лишь общие принципы работы с «нулевыми гипотезами», пользующимися сегодня большой популярностью среди экологов. Приоритет здесь на стороне оппозиции. Д. Симберлову и его последователям удалось показать, что на многих архипелагах животные и в самом деле распределены по островам так, что «нулевая гипотеза» не может быть отвергнута. Иными словами, все объясняется без конкуренции.
Но оппозиция торжествовала недолго. Вскоре последовали ответные шаги защитников теории конкуренции, решивших утвердить свое кредо тем же оружием. Они также принялись строить «нулевые гипотезы» и, последовательности ради, стали проверять их на примере тех же архипелагов и тех же животных, которые недавно верой и правдой служили Д. Симберлову и его соратникам. Здесь обнаружились вещи удивительные. «Нулевые гипотезы», созданные защитниками конкуренции, к великой радости последних, лопались с легкостью мыльных пузырей. А каждая опровергнутая гипотеза, напомним, означает, что животные расселяются по островам не как им заблагорассудится, а в соответствии с жесткой табелью о рангах, начертанной неумолимой десницей конкуренции.
Как же быть? Где же истина? Экологи еще раз убедились в том, что ни один методический прием, даже самый остроумный и современный, не в состоянии разом устранить конфронтацию между теоретическими доктринами.
Вернемся к «нулевым гипотезам». Почему же разные ученые, применяя один и тот же метод к изучению одних и тех же животных, пришли к диаметрально противоположным выводам? Никакого чуда здесь нет. При всем сходстве научной процедуры, «нулевые гипотезы» в устах сторонников и противников конкуренции звучали все же по-разному, отличался и подбор видов. Например, Д. Симберлов проверял свои гипотезы, используя широкий спектр форм: всех птиц или всех насекомых архипелага. Такой образ действий, конечно, уязвим для критики – ведь с точки зрения здравого смысла вероятность конкуренции между воробьем и попугаем равна нулю. Точно так же нечего делить стрекозам и бабочкам, жукам и кузнечикам. А раз жизненные интересы этих видов не имеют точек сопрокосновения, вопрошают сторонники конкуренции, то на каком основании они оказываются в вашей модели рядом друг с другом? Кроме того, почему вообще дело ограничилось одними лишь птицами, почему не взять всех позвоночных?
Что же предлагается взамен? Ответ готов – надо учитывать только те виды птиц, которые с наибольшей вероятностью могут оказаться соперниками, в борьбе за ресурсы. Казалось бы, выход. На деле – порочный круг. Ведь задача в том и состоит, чтобы или найти межвидовую конкуренцию, или подтвердить ее отсутствие. Если же с самого начала рассматривать лишь «потенциальных конкурентов», то в конце концов лента ЭВМ представит нам, безусловно, все доказательства конкуренции, но стоило ли огород городить?
Итак, именно принципы подбора видов стали главным препятствием на пути превращения «нулевых гипотез» в универсальных арбитров спорных проблем экологии. В лагере оппозиции вообще не позаботились о том, чтобы сформулировать эти принципы. Сторонники конкуренции о них не забыли, но допустили методологический просчет, заложив результаты работы в ее исходные предпосылки. В итоге каждый остался при своем мнении, и дебаты на страницах научных журналов вспыхнули с новой силой.
Какая же теория верна? Проверить это можно на примере кораллового рифа. Как устроено сообщество коралловых колоний? Быть может, каждый вид обживает лишь собственную экологическую нишу и ему нечего делить с соседями? Но нет, ветвистые шарообразные, грибовидные колонии так перемешаны, что по крайней мере в отношении мест обитания совпадение потребностей разных видов вполне очевидно. Конечно, различия тоже есть: одни кораллы охотнее заселяют хорошо освещенные верхние горизонты рифа, другие живут поглубже. Некоторые виды лучше чувствуют себя на прибойном склоне, но есть и любители спокойной жизни, тяготеющие к защищенной от прибоя прибрежной лагуне. Но таких вариантов немного, а на рифе живут десятки разных кораллов, так что волей-неволей им приходится мириться с тесным соседством.
Но, может быть, различаются гастрономические наклонности? Как будто нет. Кораллы живут в симбиозе с водорослями, которыми буквально нашпигованы мягкие ткани полипов. Водоросли способны к фотосинтезу. На свету они производят питательные вещества, причем их с лихвой хватает и самим водорослям и кораллам. Днем полипы прячутся в своих известковых домиках, образующих прочный скелет колонии, однако ночью высовываются наружу и расправляют венец щупалец. Наступает время охоты на мелких планктонных животных. Наконец, полипы впитывают некоторые вещества непосредственно из воды. Таким образом, способы добычи пропитания у кораллов весьма разнообразны.
Все, что необходимо для зарождения и роста колонии коралла – это небольшой участок никем не занятого и хорошо освещенного пространства, где после долгих странствий в толще воды может найти пристанище крошечная личинка – планула. Вакансии пространства на рифе заполняются быстро, причем на каждое свободное место претендуют одновременно десятки разных кораллов. Со временем здесь может раскинуть ажурный венец отростков колония акропоры, но, возможно, первой займет это место личинка коралла-мозговика, и тогда вырастет колония, напоминающая приплюснутый шар, изборожденный причудливой сеткой глубоких морщин. Разнообразные монтипоры, милепоры, фунгии и пориты также участвуют в этой лотерее, где главным призом становится необходимое для колонии «место под солнцем».
Местами на рифе кораллы настолько плотно примыкают друг к другу, что не только яблоку – личинке втиснуться некуда. Колонии, принадлежащие к одному виду, придерживаются строгого нейтралитета. Соприкоснувшись по мере роста друг с другом, они прекращают расти, но продолжают расширяться в другие направления. Иначе складываются взаимоотношения колоний разных видов. Здесь царит жестокий антагонизм. Одна из колоний почти всегда опережает в росте свою соседку и со временем начинает затенять ее, перехватывая львиную долю солнечного света. В конце концов колония, отстающая в росте, погибает, а ее известковый скелет становится неодушевленным твердым субстратом, пополняющим ресурсы жизненного пространства на рифе. Интересно, что в соперничестве двух видов кораллов один неизбежно побеждает, а другой столь же постоянно терпит поражение.
Таким образом, можно полагать, что со временем один из видов кораллов полностью вытеснит все другие виды. Наверняка же среди кораллов есть такие виды, колонии которых в данных условиях растут быстрее колоний всех прочих видов. Ведь налицо и объект соперничества – жизненное пространство, и способ борьбы – обрастание. Почему же тогда так неистребимо разнообразие кораллов на рифе? Какие силы препятствуют неограниченной диктатуре преуспевающих видов?
Чтобы дать ответ на эти вопросы, нам придется вспомнить, что не одними лишь кораллами знаменит коралловый риф. Трудно вообразить себе более динамичную и сложную экосистему, где поминутно взаимодействуют друг с другом десятки и сотни живых организмов, где даже самые замечательные преимущества любого вида в другой ситуации легко могут обернуться его повышенной уязвимостью.
Быстро растущие кораллы образуют ажурные, ветвистые, необычайно хрупкие колонии. Они не только легко ломаются, но и легко отрываются от субстрата. Даже заурядный шторм – а на мелководье, где в основном и живут кораллы, он особенно чувствителен, – способен сильно потрепать заросли изящных акропор, тогда как приземистые мозговики не ощутят никаких неудобств. Но и им придется несладко, когда на риф с неудержимой яростью обрушится очередной тропический ураган. В одних районах Мирового океана ураганы проходят раз в несколько лет, в других бывают почти ежегодно и при этом повсюду они сильно разрушают коралловые рифы, часто неузнаваемо преобразуя подводный ландшафт. Стоит ли говорить, что после таких катастроф свободное пространство появляется в избытке.
Кораллы могут жить только в сильно соленой воде. Малейшее опреснение губит этих животных, поэтому они часто гибнут во время сильных тропических ливней, в особенности, если это совпадает по времени с сильными отливами. И, конечно же, в первую очередь от этой напасти страдают наиболее высокорослые колонии – а именно такие как раз и свойственны быстрорастущим видам. Парадокс, но в местах, где максимальные отливы почему-то особенно часто сопровождаются сильными дождями, например у берегов Красного моря, число видов кораллов особенно велико.
Ну а что будет, если на рифе воцарится тишь и благодать? Ни тебе ураганов, ни штормов, ни катастрофических ливней. Значит ли это, что со временем риф целиком окажется во власти вида-узурпатора? Разумеется, нет. Ведь кораллы вовлечены в сложную систему пищевых связей в биоценозе, где много таких животных, которым кораллы только подавай! Напомним, что твердый известковый скелет живой колонии пронизан густой сетью пор, наполненных нежной тканью сотен и тысяч полипов. А это – те самые белки, жиры и углеводы, до которых всегда найдутся охотники.
Извлечь органическое вещество из прочного скелета колонии отнюдь не просто. Однако многие приспособились. Особенно опустошительны нашествия морских звезд, обладающих уникальной особенностью выворачивать свой желудок наружу. Проделав эту экстравагантную процедуру, звезда плотно охватывает желудком ветвь коралла и, облив ее желудочным соком, не спеша переваривает мягкие ткани полипов. Остается совершенно целый скелет, который вскоре разрушается и освобождает место для других кораллов.
Иная тактика у рыб-попугаев, элегантная внешность которых плохо вяжется с их разбойничьими повадками. Мощные челюсти, напоминающие клювы, позволяют им отгрызать целые ветви кораллов и мелко перемалывать их. В пищеварительном тракте рыб ткани полипов перевариваются, а мелкая известковая крошка выводится наружу и тонким слоем чистого белого песка ложится в промежутках между коралловыми клумбами.
Итак, вероятность появления вида-узурпатора крайне мала. Слишком сложны биоценотические отношения на коралловом рифе. Так уж устроены живые организмы, что за любые преимущества в борьбе за существование с них взимается солидная плата. Быстрый рост колонии дает вполне определенные выгоды в соперничестве с другими видами кораллов. Но чтобы расти быстро, колония должна неизбежно иметь достаточно ажурную структуру, что влечет за собой подверженность разным напастям, будь то погодные катаклизмы или нашествия прожорливых хищников.
Иными словами, каждый вид, выигрывая в одном, тут же проигрывает в другом. В итоге – численность каждого вида кораллов на рифе эффективно регулируется сложным комплексом причин, многие из которых действуют независимо друг от друга. Сообщество кораллов испытывает постоянные возмущения, оно непрерывно обновляется, никогда не достигая состояния успокоенности и равновесия, губительного для сообщества, ибо здесь и в самом деле может возникнуть ничем не ограниченная диктатура одного из видов.
В природных экосистемах, счастливо избежавших слишком активного вмешательства человека, диктатура исключена. Но в простых экспериментальных условиях она, к радости сторонников конкуренции, устанавливается с легкостью необычайной. Тем не менее возникающее при этом соперничество обычно имеет мало общего с конкуренцией за пищу. Если посадить в банку с водой два вида дафний и кормить их инфузориями, то вначале оба вида будут быстро размножаться. Вскоре численность одного из них начнет быстро сокращаться. В чем же дело, ведь в инфузориях как будто недостатка не было? Все объясняется тем, что в воде, где живут рачки, накопились вредные продукты их обмена, причем исчезающий вид оказался к ним более чувствительным, чем победитель.
Ну а можно ли «помирить» дафний, надолго поселив их в одном сосуде? Для этого нужен большой, густо заросший водными растениями аквариум с двумя-тремя меченосцами. Часть дафний будет регулярно идти на обед рыбам, и численность рачков никогда не достигнет того уровня, при котором они станут неблагоприятно влиять друг на друга. Растения же нужны для того, чтобы здесь могли спрятаться рачки, призванные своим размножением восполнять урон, причиняемый популяции дафний прожорливыми меченосцами. Таким образом, и в простейшей, искусственной «экосистеме» легко обеспечить «мирное сосуществование» близких видов, пусть даже они используют доступную им среду совершенно одинаково. Что же говорить о природных биоценозах, включающих сотни разных видов животных и растений?
Когда очень похожие виды населяют одну и ту же среду и конкурируют за одни и те же ресурсы, успешным в большинстве случаев оказывается только один. Он становится доминирующим, а остальные либо вымирают, либо изменяются, чтобы попробовать выжить. Так, например, если на каменистом склоне калифорнийского холма встречаются сильфиум и мадия, первое растение неизменно вытесняет второе. Показателен также пример птиц, обитающих на северо-востоке того же континента. Тигровые лесные певуны ещё недавно конкурировали за право проживания на верхушках местных елей с несколькими другими представителями своего рода, но в конечном итоге вытеснили их. Побежденные переместились ниже, и теперь выясняют отношения между собой.
В подобных ситуациях преимущество могут дать даже самые незначительные факторы. Так, например, сильфиум на не слишком плодородной почве крепнет быстрее мадии, чем пользуется год за годом. Этого достаточно, чтобы один вид оказался в конечном итоге сильнее другого. Подобные победы просчитываются даже математически. Существуют уравнения и компьютерные симуляции, позволяющие предсказать фаворита в соревновании между близкими видами, и они почти никогда не ошибаются. Будущий чемпион раз за разом реализует даже незначительное преимущество, и этого ему хватает для победы.
Кажется, что в случае с планктоном все должно работать ровно таким же образом. Все его разновидности конкурируют за ограниченное количество ресурсов в очень тонком водном слое на поверхности океана. По логике вещей здесь тоже должны победить самые сильные и приспособленные, но ничего подобного ученые не наблюдают. Тысячи схожих видов микроорганизмов сосуществуют в этой среде в относительной гармонии. Почему? Вполне возможно, что использующиеся математические модели неверны конкретно для планктона, так как не учитывают всех местных условий, которые и в самом деле могут быть весьма непредсказуемыми. Ветер и волны регулярно баламутят воду, нивелируя те преимущества, которые могут быть у того или иного вида планктона. Для реализации этой форы требуется время и спокойная обстановка, о чем здесь можно только мечтать. Возможно, каждое серьезное внешнее воздействие обнуляет достигнутые прежде результаты, и разновидности планктона каждый раз начинают свое соревнование заново.
Не исключено также, что математические модели верны, но используются неправильно. Исследователи собирают планктон с помощью нехитрого приспособления, представляющего собой натянутую на бутылку мелкую сеть. Протаскивая его сквозь воду, они, вполне возможно, зачерпывают образцы из нескольких разных сред, толщина которых измеряется в микрометрах. При рассмотрении этого материала под микроскопом можно сделать вывод, что все обнаруженные микроорганизмы гармонично сосуществуют друг с другом. Однако имеется немалая вероятность того, что это просто беспорядочная коллекция, и каждый представленный в ней вид доминирует в своей крошечной, ограниченной со всех сторон среде.
В последнее время многие эксперты склоняются к ещё одному объяснению затронутой сегодня проблемы: существующие модели верны в принципе, однако дают сбои при некоторых особых условиях. Так, например, если попытаться просчитать результат конкуренции пяти или более видов животных за три и более вида ресурсов, симуляция фактически оказывается в тупике и не может определить явного фаворита. Что-то похожее было замечено не только у океанского планктона, но и в пещерных экосистемах, в которых сосуществуют несколько популяций летучих мышей. В общем и целом, мораль этого рассказа, наверное, такова: какими бы примитивными ни казались нам некоторые организмы, существующие на нашей планете, у них всегда найдутся тайны, над разгадкой которых придется поломать голову. Что, конечно же, просто замечательно.
Много лет биологи не могли разгадать секрет сообщества морских микроорганизмов и понять, как оно может быть столь разнообразным, оставаясь при этом стабильным. Такими чертами могут похвастаться не только одноклеточные обитатели водоемов, но и сообщества микробов, живущие в телах крупных организмов и в других местах.
В большинстве таких сообществ есть «центральные» виды, представителей которых больше всего, и «периферические» – менее важные. Они все конкурируют за один ресурс или ограниченный круг ресурсов. Согласно предыдущим подсчетам и более ранним моделям, рост численности одних популяций должен быть резким и экспоненциальным, что может нарушить равновесие всего сообщества. Побеждая в численности, одни популяции должны захватывать большую часть ресурса, лишая остальных пищи по принципу конкурентного исключения. Но в реальности такого не происходит, и сообщество сохраняет стабильность. Ученые называют это парадоксом планктона.
Одна из главных теорий, объясняющих парадокс, базируется на двух основных принципах. Первый состоит в том, что некоторые бактерии поедают отбросы и отходы, которые выделяют остальные. Другой опирается на то, что новички в сообществе должны выбирать свободные экологические ниши или лучше, чем другие члены сообщества, занимать уже существующие.
Исследователи создали математическую симуляцию этой теории, задав набор начальных правил. Каждый участник сообщества мог потреблять лишь один тип ресурса, вызывая производство двух новых типов. Также ученые предположили, что появляющиеся члены экосистемы могут выжить, только если они найдут себе нишу, заняв пустую или научившись лучше использовать уже занятый ресурс.
Модель позволила создать виртуальное сообщество, где, как и в настоящих сообществах микроорганизмов, сохранялись стабильность и многообразие. Математики заметили, что на ранних стадиях развития их виртуальной экосистемы иногда возникали повальные «вымирания», когда власть захватывали новые виды, более эффективно использующие ресурс. Затем погибали виды, питавшиеся отходами бывших «фаворитов». Но со временем сообщество стало более стабильным, и такие вымирания стали случаться намного реже.
На примере экспериментов и экологических парадоксов объясняем, почему нельзя упрощать биологические системы, изымая из них большинство видов.
Около десяти лет назад группа экологов из Йельского университета провела очень простой, на первый взгляд, эксперимент. В самом начале периода вегетации ученые полностью изолировали от внешней среды несколько одинаковых участков луговой растительности, предварительно убедившись, что на них нет никаких животных, даже мелких насекомых. Затем на одних участках они поселили травоядных насекомых (кузнечиков) вместе с охотящимися на них хищными пауками, на других – только кузнечиков. Третью группу участков оставили вообще без животных. В конце лета они подсчитали биомассу, накопленную растениями на всех площадках. Результаты эксперимента оказались довольно необычными.
Там, где кузнечики были, а пауки отсутствовали, растения сформировали меньшую биомассу, чем на тех участках, где жили и те, и другие. Это выглядит логичным: без сдерживающих факторов кузнечики могут уничтожить значительную часть растительности – вспомните опустошающие налеты саранчи. Но удивительным оказалось другое: там, где растения росли вообще без присутствия животных, биомассы образовалось на 20–40% меньше, чем на участках с кузнечиками и пауками.
бы, если растения предоставлены сами себе, им точно ничто не мешает накопить максимально возможную биомассу. Там же, где есть кузнечики, пусть и сдерживаемые пауками, поедание растений неизбежно. Но, как выразился руководитель проекта Освальд Шмитц в интервью журналу Scientific American, «реальность оказалась иной», после чего он добавил «и, если честно, то мы просто не знаем, почему».
В этом эксперименте есть ещё один интересный аспект. Экологи часто пользуются понятием «пищевая цепь». Говоря простыми словами, это способ показать, кто кем питается в данном биоценозе. В наземных экосистемах пищевые цепи всегда начинаются с растений, которые производят органические вещества с помощью энергии солнца (фотосинтез). Затем идут травоядные животные, затем хищники. Реальные цепи длинные и часто разветвлённые (дерево–гусеницы–муравьи–пауки–синицы–ястреб и т.д.). Но в описанном опыте они были максимально упрощены и состояли либо из одного звена (только растения), двух (растения + кузнечики) либо трёх (растения + кузнечики + пауки).
Важно, что на каждом участке пищевой цепи теряется часть биомассы. Действительно, съеденная пища никогда не усваивается целиком, а из того, что усвоилось, часть тратится на дыхание и движение. Поэтому чем длиннее цепь, тем больше исходной (растительной) биомассы в ней должно было потеряться в виде отходов и углекислоты. Однако результаты опять не совпадают с предсказанными: ведь в самой длинной цепи накопилось в итоге больше биомассы, чем в самой короткой.
Возникает ощущение, что растения «поняли», что им нужно произвести больше биомассы для более длинной цепи. Но как? Даже если они воспринимали повреждение их кузнечиками как механический стимул для ускорения роста (такую мысль высказывали авторы статьи), то откуда они узнали про наличие пауков? Ведь пауки их не ели.
Эта история очень напоминает детскую загадку про волка, козу и капусту, с той разницей, что правильным решением будет посадить в лодку всех троих: с экологической точки зрения именно такой вариант будет самым устойчивым. Означает ли это, что экосистемы не подчиняются естественной логике причин и следствий? Нет, не означает. Дело в другом: выстраивая экологические эксперименты так, чтобы все причины и следствия были для нас однозначны, мы фактически разрушаем баланс, заставляя виды взаимодействовать так, как они никогда бы не стали делать это в природе.
Один из самых цитируемых в мире подобных опытов осуществил в 1930-х годах профессор МГУ Георгий Гаузе. Он выращивал в пробирках инфузории различных видов, питавшиеся одними и теми же бактериями и дрожжами. По отдельности каждый вид прекрасно существовал в искусственных условиях. Но когда два вида объединяли в одной пробирке, то через некоторое время оставался лишь один из них, а второй исчезал, не выдерживая конкуренции за питание. Считается, что таким образом Гаузе наглядно доказал принцип конкурентного исключения, вошедший в «золотой фонд» теоретической экологии.
Казалось бы, все логично: если ресурсы ограничены и несколько видов конкурируют за них, то побеждает сильнейший. Но реальность опять оказалась иной. Никак не умаляя заслуги Гаузе, приходится признать, что мы практически не видим проявлений этого закона в природе. Например, наблюдения и эксперименты Нельсона Хейрстона с саламандрами в Аппалачах показали, что конкуренция в естественной среде существует, а вот конкурентное исключение — нет.
Хорошо известен также «парадокс планктона», до сих пор не разрешённый. Микроскопические организмы (во многом подобные тем же инфузориям) живут во всех океанах массовыми скоплениями близ поверхности воды, где среда выглядит практически однородной. Чем не естественный вариант опытов Гаузе? Однако мы не наблюдаем здесь резкого преобладания одного (или немногих) «самых приспособленных» видов, напротив – сталкиваемся с постоянно существующим невероятным видовым разнообразием, создающим кормовую базу для крупных организмов.
Более близкий нам пример – леса. На Земле есть немало лесов, где растёт сразу несколько или даже множество пород деревьев (особенно в тропиках, но не только). Именно там мы часто видим, что деревья каждой породы выглядят особенно крупными, даже роскошными, хотя, казалось бы, они должны угнетать друг друга. Если мы теперь вспомним пригородные зеленые зоны, состоящие обычно лишь из одного вида деревьев, то нас вряд ли впечатлит их вид.
Вернёмся к эксперименту с травой, кузнечиками и пауками. Йельские ученые не создавали свои экосистемы с нуля: они воспользовались естественными лугами, где давно сформировались сложные экологические связи. Что же сделали экспериментаторы с «точки зрения» самих экосистем? Они сначала лишили естественную природу нескольких важных компонентов, а потом «позволили» некоторым из них вернуться на свое место. Что же удивительного в том, что наиболее полноценные системы в результате показали большую производительность по сравнению с максимально упрощёнными? Почему вообще следовало ожидать чего-то другого? Как видите, небольшая «смена фокуса» позволяет взглянуть на старые факты с новой стороны.
Мы постоянно попадаем в одну и ту же ловушку, считая, будто «преимущества» биоразнообразия нужно доказывать. Но сама природа на каждом шагу демонстрирует нам, что разнообразие на всех уровнях является основополагающим. Вмешиваясь в сложные природные системы, мы зачастую не просто выходим за рамки собственных знаний (что вполне нормально), но ведём себя как слон в посудной лавке. В итоге получаем то хаос, то пустое помещение, где всё ясно, но ничем нельзя воспользоваться, то необходимость собирать китайский фарфор из осколков, не зная, какой фрагмент куда подходит. И если даже научные эксперименты демонстрируют недостатки упрощённого взгляда на природу, то тем более об этом следует задуматься тем, кто, обладая разрушительной мощью в тысячи слоновьих сил, ещё не научился слоновьей мудрости.
|