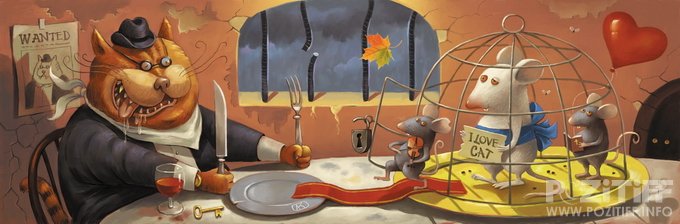
В августе 1976 года в Стокгольме сбежавший из тюрьмы заключенный ворвался в банк, ранил полицейского и захватил в заложники четырех человек. Он требовал оружие, деньги, машину и доставить своего сокамерника из тюрьмы. Напарника тут же доставили; но с оружием и деньгами была напряженка. Тогда преступник стал угрожать убить заложников – когда полиция проделала в потолке помещения дыру, чтобы пустить газ, он надел на заложников петли и грозился их повесить в случае штурма. Через пять дней газовая атака все-таки была проведена, захватчики сдались и заложников освободили.
Но в этом ЧП всешведского масштаба было нечто, что привело полицию в недоумение, а вскоре – и в полное отчаяние. А именно – поведение заложников. Через два дня, проведенных взаперти, после неиллюзорных угроз их убить, они вдруг стали критиковать действия полиции, защищать своего захватчика, вплоть до того, что одна из заложниц позвонила премьер-министру страны Улафу Пальму и требовала выполнить все условия преступников. После освобождения четверка заявила, что захватчики не сделали им ничего плохого (ночь с петлей на шее благополучно стерлась из памяти), и они боялись не их, а напротив, полицию (!!!). По некоторым данным, бывшие заложники даже потом скинулись преступникам на адвокатов!
Этот парадокс вскоре получил название «стокгольмский синдром»: но само явление было описано еще в 1936-м Анной Фрейд как «идентификация с агрессором». Это один из способов защиты психики в стрессовых ситуациях – жертва пытается оправдать своего насильника, «войти в его положение», чтобы легче пережить агрессию, «слиться с ним», попытаться предугадать его действия и попытаться их смягчить.
Очень широкое применение (если можно так выразиться) стокгольмский синдром находит в семьях, где практикуется системное насилие. Многие сторонние наблюдатели не могут понять, как женщины годами живут в атмосфере страха, побоев и унижений (даже моральных издевательств), и не только не уходят, но и продолжают боготворить своего насильника – хоть всем вокруг очевидно, что отношения нездоровые и разрушительные. Кстати, сам Зигмунд Фрейд считал идентификацию с агрессором основой Эдипового комплекса: не в силах победить довлеющего над всеми отца, сын начинает мечтать о том, чтобы занять его место. Именно из-за стокгольмского синдрома (в том числе) полиция так не любит выезжать на семейные драки: вскоре женщины забывают о синяках и ранах, становятся на сторону своего мучителя и начинают проклинать правоохранителей на чем свет стоит.
Как же избавиться от стокгольмского синдрома – как на уровне семьи, так и на уровне целого социума? К сожалению, выход только один – осознание агрессора как агрессора, а себя – как жертвы. И потом как можно скорее дистанцироваться от травмирующей ситуации: чем дальше, тем стокгольмский синдром лучше лечится и быстрее проходит (не без помощи психолога, кстати).
Психологи склонны считать стокгольмский синдром нормальным проявлением человеческой психики в таких экстремальных условиях, как, например, взятие в заложники. Исследователи объясняют мотив жертвы в подобной ситуации тем, что она испытывает надежду на то, что ее мучения спасут от подобной участи других людей.
Стокгольмский синдром особенно активно развивается в условиях, когда жертвы разделены на маленькие группы и проводят много времени со своими мучителями. Однако важно исключение физического насилия, а также проявление периодических поблажек со стороны агрессора. При этом стокгольмский синдром возможен не только при непосредственном лишении свободы, но и при проявлении насилия – внутрисемейного, бытового и сексуального. Стоит отметить, что стокгольмский синдром – явление достаточно редкое: на 1200 случаев, в рамках которых может развиться синдром, приходится лишь 8% его фактических проявлений.
Стокгольмский синдром – психологическое состояние, возникающее при захвате заложников, когда заложники начинают симпатизировать и даже сочувствовать своим захватчикам или отождествлять себя с ними. Если террористов удаётся схватить, то бывшие заложники, подверженные стокгольмскому синдрому, могут активно интересоваться их дальнейшей судьбой, просить о смягчении приговора, посещать в местах заключения и т.д.
Характерный набор признаков Стокгольмского синдрома следующий:
• Пленники начинают отождествлять себя с захватчиками. По крайней мере, сначала это защитный механизм, зачастую основанный на неосознанной идее, что преступник не будет вредить жертве, если действия будут совместными и положительно восприниматься. Пленник практически искренне старается заполучить покровительство захватчика.
• Жертва часто понимает, что меры, принятые её потенциальными спасателями, вероятно, нанесут ей вред. Попытки спасения могут перевернуть ситуацию, вместо терпимой она станет смертельно опасной. Если заложник не получит пулю от освободителей, возможно, то же самое ему достанется от захватчика.
• Долгое пребывание в плену приводит к тому, что жертва узнаёт преступника, как человека. Становятся известны его проблемы и устремления. Это особенно хорошо срабатывает в политических или идеологических ситуациях, когда пленник узнаёт точку зрения захватчика, его обиды на власть. Тогда жертва может подумать, что позиция преступника – единственно верная.
• Пленник эмоционально дистанцируется от ситуации, думает, что с ним этого не могло произойти, что всё это сон. Он может попытаться забыть ситуацию, принимая участие в бесполезной, но занимающей время «тяжёлой работе». В зависимости от степени отождествления себя с захватчиком жертва может посчитать, что потенциальные спасатели и их настойчивость действительно виноваты в том, что происходит.
Стокгольмский синдром усиливается в том случае, если группу заложников разделили на отдельные подгруппы, не имеющие возможности общаться друг с другом.
Стокгольмский синдром понимаемый более широко как «синдром заложника», проявляется и в быту. В быту не так уж редко возникают ситуации, когда женщины, перенёсшие насилие и остававшиеся некоторое время под прессингом своего насильника, потом влюбляются в него.
Стокгольмский синдром – термин, которым обозначают позитивные эмоциональные отношения между жертвой и агрессором. Еще десятилетие назад этот психологический феномен рассматривался лишь в призме взаимоотношений преступников и их заложников. В наши дни данный термин широко распространен и в контексте семейных взаимоотношений, именно он объясняет поведение женщин, которые терпят физическое насилие от мужей. В чем суть «бытового» стокгольмского синдрома, и как разорвать тесную связь с супругом-тираном?
Феномен стокгольмского синдрома несложен и сводится к тому, что жертва начинает испытывать к агрессору некую симпатию, чувствует от него эмоционально-психологическую зависимость, а также защищает его в глазах окружающих. К сожалению, подобные взаимоотношения встречаются и в семейной жизни. В них, как правило, жена является жертвой, а муж – «преступником». Однако нередко стокгольмский синдром проявляется и в отношениях родители-дети. При этом данным психологическим расстройством может страдать как ребенок, так и родители, находящиеся под. гнетом властных детей.
Психологи отмечают, что в 80% случаях «бытовой» стокгольмский синдром возникает у людей с определенным типом мышления. Большинство женщин со стокгольмским синдромом находятся в так называемой позиции жертвы. Они ощущают себя магнитом, притягивающим неприятности, видят мир в негативных тонах. При этом, если другие женщины пытаются бороться за свое счастье, то в данном случае представительницы слабого пола уверены, что большего они не заслуживают. Их участь – быть смиренными и терпеть агрессию мужа. В 90% подобное мироощущение – результат поведения родителей. Они были либо чрезмерно критичны к ребенку, даже в том случае, когда он явно старался угодить им, либо уделяли ему мало внимания и заставляли чувствовать себя ненужным.
Причиной для формирования «бытового» стокгольмского синдрома может быть и психологический механизм защиты, который включается у женщины в момент гендерного насилия. Он основан на идее, что если жертва не будет противоречить агрессору, его вспышки гнева будут либо менее частыми и критическими, либо они будут направлены на иной объект. Кроме этого, большинство случаев гендерного насилия имеет два периода: сами унижения и издевательства и последующие за ними раскаянья. Эмоционально слабая женщина не выдерживает натиска и прощает агрессора. Спустя определенный временной промежуток схема повторяется. При этом нередко «бытовой» стокгольмский синдром основывается на общественных стереотипах, утверждающих, что одинокая женщина не может быть счастливой и состоявшейся. Представительницы слабого пола, идущие на поводу этих мнений, годами терпят физическое и психологическое насилие, не найдя в себе мужества разорвать «больные» взаимоотношения.
Истории известно много случаев, когда заложники закрывали своим телом преступников от пули, и даже сбегали вместе с ними. В семейных взаимоотношениях стокгольмский синдром сводится к тому, что искалеченная женщина либо оправдывает поведение мужа, ища причину его агрессии в себе, либо тщательно скрывает от окружающих его поступки.
Большинство женщин со стокгольмским синдромом до конца жизни пытаются приспособиться к своему обидчику. И даже если к ним на помощь приходят родные люди, продолжают действовать вопреки собственным интересам и всячески мешают своему «освобождению» от мужа-тирана. Женщина должна сама осознать безрассудность своего поведения. И в этом ей может помочь психолог. Он проведет терапию, поможет заглянуть внутрь себя, чтобы найти и вырвать корни жертвенности. Зачастую, женщины терпящие насилие своих мужей, также несчастливы в других сферах жизни. Они играют, как говорят в простонародье, роль «подушки для битья», а это далеко не самая правильная жизненная позиция.
Хотя стокгольмский синдром в чистом виде встречается редко, он может возникать в многочисленных ситуациях – не только при захвате заложников или похищении людей, но в тюрьмах и лагерях, при военных карательных операциях, отправлении судебных процедур, вспышках семейного или сексуального насилия. Во всех этих случаях механизм психологической защиты основан на надежде жертвы, что агрессор проявит снисхождение при условии безоговорочного выполнения всех его требований. Поэтому заложник, пленник или жертва насилия старается продемонстрировать послушание, оправдать действия захватчика, вызвать его одобрение и покровительство.
Термин «стокгольмский синдром» используют также для описания взаимоотношений слабых и сильных, от которых слабые зависят (руководители, преподаватели, главы семейств). Механизм психологической защиты слабых основан на надежде, что сильный проявит снисхождение при условии полного подчинения. Поэтому слабые стараются демонстрировать послушание с целью вызвать одобрение и покровительство сильного.
В психологии стокгольмский синдром рассматривают как парадоксальный психологический феномен, и интерпретируют иррациональные чувства, которые проявляют заложники в ситуации опасности и риска, как результат ошибочного истолкования ими отсутствия злоупотреблений со стороны преступников как актов доброты.
Психологи говорят также о «синдроме заложника», при котором происходит серьезное изменения сознания человека. Зная, что преступники хорошо понимают, что до тех пор, пока живы заложники, живы и сами преступники, заложники занимают пассивную позицию, у них нет никаких средств самозащиты ни против преступников, ни в случае штурма.
Под воздействием шока и пребывания в плену заложник начинает толковать любые действия агрессора в свою пользу. Жертва ближе узнает преступника и в условиях полной физической зависимости от него начинает испытывать привязанность, сочувствовать и симпатизировать террористу. Этот комплекс переживаний создает у жертвы иллюзию безопасности ситуации и человека, от которого зависит его жизнь. Ибо единственной защитой для заложников может быть терпимое отношение со стороны преступников.
Долгое времяпровождение жертвы с преступником приводит также к тому, что они устанавливают тесный взаимный контакт, лучше узнают друг друга и у них могут возникнуть симпатия и дружеские чувства. Пленник узнает точку зрения захватчика, его проблемы, чаяния и устремления, а, может быть, и «справедливые» обиды на власть. Жертва начинает с пониманием относиться к действиям преступника и может думать, что его позиция – во многом справедлива. В итоге жертва находит оправдание поведению преступника и может простить ему даже то, что он подвергал ее жизнь опасности.
Часто пленники начинают добровольно содействовать захватчикам и даже противиться попыткам их освобождения, ибо понимают, что в этом случае велика вероятность погибнуть или пострадать, если не от рук преступника, то от лиц, пытающихся их освободить. Заложники боятся штурма здания и насильственной операции властей по их освобождению больше, чем угроз террористов. Такие поведенческие признаки проявляются в тех случаях, если преступники после захвата только шантажируют власть, а с пленниками обходятся корректно. Здесь стоит напомнить, что в ходе захвата террористическим отрядом Басаева больницы в Буденновске заложники, несколько дней пролежавшие на полу больницы, также просили власти не начинать штурма, а выполнить требования террористов.
Ситуация, провоцирующая «стокгольмский синдром», не только хорошо описана в психологической литературе, но отражена во многих художественных фильмах, например, в «Сорок первом» Григория Чухрая, «Беглецы», «Ночной портье» и других.
Впрочем, в этой статье мы хотим также коснуться совсем иного варианта стокгольмского синдрома, когда преступной стороной становятся не террористы, а криминальная власть, а ее жертвой – весь народ, как это имело место при Гитлере, Сталине и всех других авторитарных режимах, держащихся на насилии и лжи. История новейшего времени ярко продемонстрировала, что лютый страх перед репрессиями при всех без исключения насильственных режимах постепенно перерождается не только во «всенародную поддержку», но в горячую любовь к фанатикам и экстремистам.
Несмотря на то, что сегодня этот термин применяется в самых разных жизненных ситуациях – от истеричного начальника до нарциссического партнера, которые отравляют человеку жизнь, но от которых, тем не менее, он никак не может уйти – изначально он касался очень определенных условий.
Важно понимать, что стокгольмский синдром – это некая психологическая концепция, но не строго определенные реакции. Именно поэтому, являясь хорошо известным и достаточно изученным состоянием, он не включен в Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам.
Что касается симптоматики, если это можно так назвать, то человек со стокгольмским синдромом, как правило, начинает идентифицировать себя с людьми, которые причинили ему боль, или как минимум чувствовать с ними сильную эмоциональную связь. Это объясняется тем, что захватчики все сильнее подавляют волю жертвы, так что в итоге она не чувствует себя самостоятельной и способной на какие-то решения. Также считается, что пациенты со «стокгольмским синдромом» обладают двумя ключевыми характеристиками – позитивным отношением к похитителям и негативными чувствами в отношении полиции.
Хотя, повторимся, здесь нет набора признаков. Плюс, некоторые проявления «стокгольмского синдрома» могут пересекаться с другими состояниями, такими как посттравматическое стрессовое расстройство и выученная беспомощность.
Ученые до сих пор не могут точно сказать, почему возникает стокгольмский синдром. Но предполагают, что это, вероятнее всего, стратегия защиты жертв эмоционального и физического насилия. Также есть мнение, что вероятность стокгольмского синдрома возрастает в четырех случаях:
• Когда жертва чувствует угрозу жизни от своего похитителя;
• Когда жертва чувствует мелкую доброту, исходящую от похитителя;
• Когда жертва изолирована от точек зрения, отличных от точек зрения похитителя;
• Когда жертва понимает, что сбежать не получится.
Один из самых известных примеров жертвы со стокгольмским синдромом – Патти Херст, известная наследница большого состояния, похищенная в 1974 году. Херст в конечном итоге помогла похитителям ограбить банк и выразила им поддержку. Другим громким примером является Элизабет Смарт, подросток из Юты, который был похищен в 2002 году. Смарт выразила обеспокоенность по поводу благополучия ее похитителей, когда полиция наконец нашла ее. И большинство экспертов считают эти случаи явными примерами синдрома Стокгольма.
Одним из возможных объяснений того, как развивается синдром, является то, что, во-первых, захватчики заложников могут угрожать убить жертв, что вызывает страх. Но если похитители не причинят вреда жертвам, заложники могут почувствовать благодарность за маленькую доброту. Заложники также узнают, что для того, чтобы выжить, они должны быть настроены на реакцию своих похитителей и развивать психологические качества, которые нравятся этим людям, такие как зависимость и уступчивость.
Эксперты полагают, что это интенсивность травматического инцидента, наряду с отсутствием физического насилия по отношению к жертвам, несмотря на страх жертв его возникновения. Это создает благоприятные условия для стокгольмского синдрома, и участники переговоров о заложниках могут поощрять его развитие, потому что они считают, что у жертв может быть больше шансов на выживание, если захватчики заложат некоторую заботу об их благополучии.
Жертва влюбляется в мучителя: жуткие примеры «стокгольмского синдрома», которые поразили мир
1974 ГОД, КАЛИФОРНИЯ, США
Члены организации «Симбионистская армия освобождения» (SLA) захватили 19-летнюю внучку миллиардера Патрицию Херст, чтобы обменять ее на заключенных соратников. Девушка оказалась в аду: ее насиловали, избивали и требовали записывать публичные обращения. Что интересно, позже Патриция добровольно примкнула к SLA и участвовала в налетах на банки.
1991 ГОД, КАЛИФОРНИЯ, США
11-летнюю Джейси Ли Дугард похитили на остановке школьного автобуса. На протяжении 18 лет Филипп Гарридо и его жена Ненси держали ее в плену. Она родила мучителю двоих детей. Когда маньяка арестовали, Джейси всячески сопротивлялась правосудию и врала следствию. Филипп получил срок в 431 год, его жена – 36 лет за решеткой.
1996 ГОД, ЛИМА, ПЕРУ
Члены «Революционного движения имени Тупака Амару» (MRTA) захватили более 600 гостей посла Японии. «Лимским синдромом» с тех пор называют ситуацию, когда захватчики уступают из-за симпатии к жертвам. За время осады переговорщикам удалось освободить 549 человек.
2002 ГОД, СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ, США
Уличный проповедник Брайан Митчелл похитил 14-летнюю Элизабет Смарт из кровати. Почти год девочка жила в его доме, и даже гуляла с Митчеллом, скрывая лицо за вуалью. Она не делала попыток сбежать.
2007 ГОД, СЕНТ ЛУИС, США
В 11 лет Шона Хорнбека похитил Майкл Девлин. Четыре года мальчика били, насиловали и заставляли сниматься в домашнем порно. В ходе следствия оказалось, что у мальчика был доступ в интернет, но он не делал попыток сообщить о себе родственникам.
|







